Минуты сплетаются цепкими веточками дикого винограда; Дак теряется среди вещей уже-не-чужого-ему дома, среди вещей, звуков, запахов, он теряется во взгляде Дори и никак не может себя найти. Он растворяется во всем, что делает, он рассыпается и складывается заново с каждым вдохом, он существует, но в то же время не совсем здесь – где-то на грани между реальностью и вымыслом, невыносимо прекрасным вымыслом. Я никогда бы не поверил, что могу быть таким, – думает он, касаясь тыльной стороной ладони её щеки, – что ты сделаешь меня таким.
Иногда ему становится так хорошо, что даже страшно, страшно потерять себя в любви к ней, настолько сильной, настолько обезоруживающей. Нэвус привык быть собранным и колючим, одетым в крепкий панцирь, он привык быть дикобразом, быть крепостным валом. Он привык говорить резко и действовать соответствующе, побеждать самостоятельно и разделять свои переживания в одиночестве. Он сам по себе, даже если с кем-то; в редкие минуты Гестия и Фабиан помогали ему поднять тяжелую кованную решетку внутреннего замка, но надолго – ни разу. Потому что это пугает, так нельзя, это опасно, потом будет хуже, уж я-то знаю, уж я-то…
Доркас Медоуз снимала с него латы слой за слоем, поднимала и отбрасывала решетки, открывала (именно открывала, не ломая; и откуда у неё взялись ключи?) замки потайных дверей. Не существовало больше нахального Дакворта, без зазрения совести спорившего с преподавателями, отпускавшего едкие комментарии в адрес однокурсников, Дакворта, который решает сам за себя и борется только за самого себя, изредка – за некоторых близких.
Зато остался Робин Дак, восемнадцатилетний мальчишка, сумасшедший, сведенный с ума, открытый настолько, что больно дышать, нараспашку, до самого сокровенного. И она стоит перед ним – она видит его, целиком и полностью, и видит только она, потому что своей же спиной закрывает от других. Она и сама без раздумий открывается ему; и они стоят, замершие в своем дивном междумирье, и смотрят друг на друга перепуганно и счастливо, не знающие, что им делать друг с другом, не понимающие, как у них получилось стать такими.
– Ты невероятный, ты просто потрясающий, ты знаешь об этом?
Доркас Медоуз сидит на нем. Доркас сидит. На нем. Сидит. Нэвус улыбается; где-то в груди зарождается чуть неловкий смех; он смотрит на свою птицу намеренно-самодовольно и отвечает:
– Ещё бы!
А потом что-то меняется, вроде бы незаметно, но в то же время ощутимо; как легкое прикосновение перышка, и все летит в бездонную пропасть; пальцы Дори на его шее, ключицах. Воздуха становится совсем мало, вдохнуть невозможно, и не потому, что на нем сидит… ах нет, именно потому, что она сидит на нем, и смотрит на него так, и, кажется, тоже не дышит. Доркас ложится рядом, и некоторое время в голове Дака совсем-совсем пусто. Он целует Додо, полностью отдаваясь мягко-требовательному внутреннему «хочется», однако не способен ничего осмыслить. А потом мягкое становится все сильнее и сильнее, и уже не мурлычет, а почти ревет драконом, и…
Дори садится на кровати; Нэвус тоже приподнимается, немного не в себе. Рассудительное «может быть, я сделал что-то не так?» и тем более логичное «наверное, она просто хочет спать» теряются и пропадают.
– Ты никуда не пойдешь, скво, – Дак не особо даже задумывается над тем, что говорит; он просто не хочет её отпускать, а значит, и не отпустит.
Нэвус обнимает её и укладывает обратно на кровать. Держать её в руках ему очень странно. Она как фарфоровая статуэтка, как сосуд венецианского стекла, настолько красивый, что рядом страшно даже двигаться. Доркас поворачивается к нему лицом и Дак замирает – не разобьется ли?
– Дак, – я, – Я люблю тебя, – что?
Если в сложных переходах, коридорах и башнях его замка и оставались какие-то недосягаемые для Дори помещения, сейчас она проникла в них все. Смахнула пыль, раскрыла тяжелые бархатные шторы, залила светом темные углы. Дак смотрит на свою птицу широко раскрытыми глазами, ошеломленный, несчастный и счастливый одновременно. Её слова, её голос, её эмоции обрушиваются на него беспощадно, а он может только слушать, ничем не защищенный. Как ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Нэвус даже не уверен, хочет ли он слышать то, что слышит; ему кажется, что он пропадает – уже насовсем, падает с огромной высоты, и никогда не разобьется, а так и будет падать, падать, падать. Зачем, Дори, откуда у тебя эти слова, такие теплые, такие жестокие, зачем, зачем, зачем…
– Я люблю тебя. Я очень люблю тебя, бесконечно люблю тебя, до невозможности люблю.
Я люблю тебя, люблю тебя, – эхом отзывается у него в голове, – люблю, люблю, люблю, моя птица Додо, отважная женщина, и все слова, когда-либо выдуманные человеком, слишком блеклые, чтобы передать, насколько сильно я люблю, люблю, люблю тебя, и даже эти несчастные слова я не могу произнести. Ты прощаешь меня? Прощаешь ли ты меня? Слышишь ли ты меня, несмотря на то, что я молчу, как выброшенная на берег рыба и страдаю не меньше, не имея возможности ответить? Он мог бы выговорить «и я тебя», но это казалось ему настолько жалким и несправедливым по отношению к её признанию, что он выбрал рыбье молчание.
Когда Дори замолчала, Дак взял в ладони её лицо, не замечая, как дрожат пальцы, и поцеловал свою птицу нежно, почти трепетно, скрепляя прикосновением губ все непроизнесенное, но оттого не менее истинное.
Corrie Folk Trio and Paddy Bell - Fear a Bhata
Эдинбург пропитан магией, и эта магия ни светлая, ни темная; она старая как мир, она вызывает из памяти предков образ праматери. Мудрой создательницы, которая является то златокудрой девочкой, то прекрасной женщиной, то древней старухой; она держит в руках прялку, она улыбается и поет, она опасна, у неё в руках нити человеческих судеб, и она знает, когда какую из них оборвать. В Эдинбурге живет именно такая магия – имеющая корни в седых веках, впитавшая в себя воспетую в легендах любовь, умытая кровью многочисленных героев.
Дак держит Дори за руку, и не только потому, что держать Дори за руку ему нравится, но и для того, чтобы не потеряться. Он вертит головой, пытается заглянуть в каждый проулок, спотыкается о камни мостовой и снова поднимает глаза наверх – туда, где шпили католических соборов вонзаются в серое шотландское небо.
– Самый мой нелюбимый месяц – август – здесь самый яркий…
Сначала Нэвус собирается поинтересоваться, почему же Додо не любит август, а затем вспоминает и прикусывает губу. С чего бы тебе любить его, в самом деле. Так что он не говорит ничего, только сжимает её тонкие пальцы в своей ладони чуть крепче.
– Но это пока тебе мало о чем говорит, конечно, поэтому в кино я обязательно тебя вытащу, ты же хочешь знать, как я живу, правда?
Дак соглашается – ему очень хочется знать, как живет Дори. В его воображении слово «кино» расцветает спутанными ассоциациями; афиша с изображением Чарли Чаплина, статья о таперах в каком-то журнале, история создания кинематографа, братья Люмьер вперемешку с братьями Райт. Нэвус был в кинотеатре ровно два раза. Первый – с двоюродными братьями на «Докторе Ноу», после чего они все лето поочередно играли Джеймса Бонда. Второй же раз он сходил сам на «Космическую одиссею», мало что понял, но сильно поразился изобретательности магглов.
Ярмарка встретила их разноцветными флажками, фонариками, огоньками, яркими вывесками, разговорами, торгами, смехом и теплом. Дака греет укутанная в пончо птица, ярмарочный свет, галдеж, липовый чай и всевозможный замечательный хлам, разложенный на прилавках; ему радостно, легко и очень любопытно.
Они тянутся каждый к своему, он – к нотам, она – к пленке; но они никак не могут разойтись, а потому тянут друг друга за собой. Нэвус бурно объясняет Дори, что вот этот сборник сонат Гайдна – просто сокровище… после чего листает сокровище, огорчается и откладывает – не хватает целых пяти страниц. Они идут искать пленку для фотоаппарата, и Додо рассказывает ему, почему нужна именно вот такая, а не та, что предлагает рыжебородый ирландец, и Дак внимательно слушает и соглашается, хотя не видит ровным счетом никакой разницы.
– Шекспиииир! – любовно тянет Нэвус, и вот они уже крутятся возле пожилой букинистки и бумажного клада. «Шекспииир» оказывается замечательно старым, немного потрепанным, но вполне даже целым, а потому вскоре перекочевывает в сумку Дака.
Ничто не заставило бы их покинуть веселый галдеж и перебранки эдинбургской ярмарки – ничто, кроме голода, холода и заманчивого угощения эдинбургского кафе. Нэвус успел полюбить шотландскую кухню за простоту и вкусноту, а ещё за то, как смешно звучат загадочные названия в устах Дори. Ему необъяснимо, но до ужаса нравится, когда Додо говорит с акцентом, пусть даже он понимает её через слово.
– …а потом заиграла взрывающаяся труба, и в концертном зале сорвало крышу. Кажется, Музидора Барквис была шотландкой и жила где-то в Кэнонгейте. Или путаю с Фергюсом Брайсом? Он сочинил неслышный вальс, он исполнялся на невидимых скрипках. Или не исполнялся, это уж как посмотреть. О, малинка…
Малинка из кранахана, подцепленная ложечкой, упала в кофе; выловить её не удалось даже совместными усилиями, а может, потому и не удалось, что совместными усилиями. Неунывающий Дак компенсировал утрату, забрав ягодку из стеклянного бокала Доркас и чмокнув обделенную малиной птицу в нос.
– Я распутал! Распутал! Ох, нет, запутал. Прости.
В течение получаса пол комнаты Дака был словно усыпан драгоценными камнями – на нем в творческом беспорядке расположились перемешавшиеся гирлянды. Наконец они разделили их на две, а затем развязали все казавшиеся гордиевыми узлы. Нэвус предоставил Дори развешивать светящиеся лианы самостоятельно, аргументируя тем, что надо же кому-то придерживать стул, а она его, в случае чего, не удержит. В действительности Робин Дак придерживал вовсе не стул, а саму Додо, и весьма наслаждался этим процессом.
Когда с декорациями было покончено, Нэвус вытащил драгоценного Шекспира и устроился на кровати. Он уже давно прочел все пьесы, включенные в том, и наслаждался скорее запахом страниц и осознанием того, что эта книга побывала в руках десятков, и то и сотен людей – в том числе тех, кто видел события прошлого века. Его завораживала сама мысль об этом, о хитросплетениях человеческих судеб, неведомых ему, но уже связанных с ним. Поглощенный историей, разворачивающейся на случайно открытых страницах, Дак ничего не слышит и не видит, кроме разгневанного мавра и прекрасной спящей девушки. Он поднимает голову скорее случайно, растревоженный глубиной описываемых чувств, и видит Доркас Медоуз, которая прячет фотоаппарат в сумку. Улыбается, встает, а Дори усаживает на кровать. Стоит несколько секунд так, потом снимает очки и кладет их на тумбочку – едва ли у Отелло было плохое зрение.
– Ну, слушай, – Дак демонстративно откашливается и низким, чуть завывающим голосом начинает: – Моя печаль – печаль небес: она карает все, что любит... А, проснулась!.. Тут ты должна испуганно спросить, кто здесь. Опустим. Я отвечаю, что это я, а ты спрашиваешь, почему я не иду спать, тоже опустим… Ах, вот! Любимое, – юноша добавляет в интонации немного надрывности, – Молилась ли ты на ночь, Дездемона?!
Когда Нэвус отнимает от лица книгу, оказывается, что Дездемона вовсе не сидит на краешке кровати со смиренным видом, а вполне даже стоит рядом и смотрит на него… как-то очень сильно смотрит. И отбирает Шекспира, и Шекспир летит на пол, и Дак хочет возмутиться – как же так, старая книга, осторожней! – но молчит, потому что ему уже совсем не до книги, ему становится очень жарко, а Дори подходит ещё ближе и говорит что-то невообразимое, говорит…
– Я не молюсь рядом с тобой – нельзя молиться и думать о грехе.
Дак судорожно хватает ртом воздух и не успевает толком вдохнуть – Доркас накрывает его губы поцелуем. Внутри Нэвуса рычит и мечется огнедышащий дракон, и золотистый свет гирлянд, играющий в темных волосах прекрасной скво, только подтверждает метафору. Они уже не люди, они сильнее, больше, ни один человек не может выдержать такого желания; их любовь, словно вскипевшая, плещет через край, а ему хочется кричать, кричать, кричать… Дори целует его в скулу, спускается на шею, и Нэвус на выдохе не может сдержать тихий стон.
Он уверен, совершенно уверен, что его тело сейчас разорвется, рассыплется, перестанет существовать, разодранное бушующим драконом. Её губы касаются ямочки под подбородком, а ладони приподнимают майку и ложатся ему на живот; Дак замирает на мгновение, объятый жарким пламенем, дрожащий от внутреннего драконьего, а потом срывается и целует Дори в губы – жадно и требовательно, как ещё никогда себе не позволял, не скрывая дикого, безумного «хочу тебя». Я хочу тебя, хочу, хочу, хочу... Сомнения, страхи, правильные мысли, лишние мысли сгорают в золотом огне; Нэвус послушно поднимает руки, когда До снимает с него майку, и, не способный остановить происходящее, тянет вниз её платье; кажется, не очень аккуратно, потому что слышит треск ткани, но не обращает на эту досадную мелочь ни малейшего внимания. Я хочу, хочу, хочу, хочу тебя, Доркас, почему ты не оставишь меня, нас, не надо, не останавливай, ни за что не останавливай, Доркас, Дори, До… Он видит перед собой её лицо, её раскрасневшиеся от поцелуев приоткрытые губы, белые угловатые плечи и целует, целует, целует, распаляясь все больше. Повинуясь порыву, Дак подхватывает Дори на руки, и вот они уже на кровати – неловкими, подрагивающими пальцами стаскивают друг с друга одежду, осыпают друг друга поцелуями. Как же сильно я… моя милая, любимая, хорошая, Доркас, Дори, Додо, что мы творим, что бы мы ни творили, как же это, как же мы… Они растворяются в драконьей сущности, горячей, почти жестокой по отношению к ним – детям? дети ли они сейчас? – они теряют себя в дикой драконьей пляске, они не помнят прошлого и не знают будущего – они существуют только в настоящем и только вдвоем, не дети, но мужчина и женщина, он и она, они, они, они…
Когда ты за собою
Какой-нибудь припомнить можешь грех,
Которого не отпустило небо,
– Молись скорей.
***
"Отелло" Шекспира в переводе Вейнберга.
Отредактировано Naevus Duckworth (10-11-2014 19:31:57)


































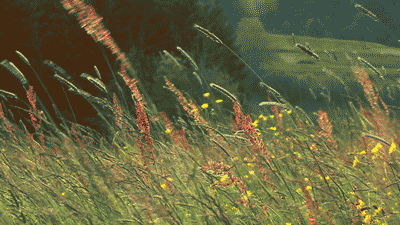




 Мягкой кошачьей лапой касается луч солнца открытого плеча, спутанных волос, длинных ресниц; Дори неторопливо открывает глаза и видит перед собой Дака – точнее, видит часть его подбородка, шею и – частично – голую грудь. В одно мгновение к ней приходит осознание того, что случилось,
Мягкой кошачьей лапой касается луч солнца открытого плеча, спутанных волос, длинных ресниц; Дори неторопливо открывает глаза и видит перед собой Дака – точнее, видит часть его подбородка, шею и – частично – голую грудь. В одно мгновение к ней приходит осознание того, что случилось, 






